Аннотация научной статьи по строительству и архитектуре, автор научной работы — Есаулов Г.В.
Рассмотрены проблемы современной архитектуры России, в числе которых развитие жилищного фонда;разработка новой типологии и формирования гуманной среды, новых типов зданий для различных групп населения; переход на рейтинговые системы оценки качества построек; технология управления и реализации проектов, формирование систем обслуживания населения; охрана исторического наследия; повышение энергоэффективности и экологичности зданий и влияние компьютера как инструмента проектировщика наархитектурное творчество. Развитие российской архитектуры в настоящее время происходит во взаимодействии процессов глобализации и регионализации , возросшего влияния массовой культуры, охвативших все сферы жизни общества. В этом контексте рассмотрены основные факторы, определяющие облик современной архитектуры , – ее четыре основных потока.
Похожие темы научных работ по строительству и архитектуре , автор научной работы — Есаулов Г.В.
Влияние столичной архитектуры на формирование архитектуры многоквартирных жилых зданий Новосибирска в конце XX-начале XXI вв
Что мешает застройщикам строить качественно. Проблемы себестоимости строительства
Эко-дизайн энергоэффективной архитектуры. Анализ основных направлений и тенденций высотного строительства
Текст научной работы на тему «Современные проблемы и тенденции в архитектуре»
Архитектура и градостроительство
Научно-технический и производственный журнал
Г.В. ЕСАУЛОВ, д-р архитектуры, академик РААСН, главный ученый секретарь Российской академии архитектуры и строительных наук, проректор по научной работе
Московского архитектурного института
Современные проблемы и тенденции в архитектуре
Рассмотрены проблемы современной архитектуры России, в числе которых развитие жилищного фонда; разработка новой типологии и формирования гуманной среды, новых типов зданий для различных групп населения; переход на рейтинговые системы оценки качества построек; технология управления и реализации проектов, формирование систем обслуживания населения; охрана исторического наследия; повышение энергоэффективности и экологичности зданий и влияние компьютера как инструмента проектировщика на архитектурное творчество. Развитие российской архитектуры в настоящее время происходит во взаимодействии процессов глобализации и регионализации, возросшего влияния массовой культуры, охвативших все сферы жизни общества. В этом контексте рассмотрены основные факторы, определяющие облик современной архитектуры, — ее четыре основных потока.
Ключевые слова: проблемы, современная архитектура, глобализация, регионализация, основные потоки и течения.
Прежде всего обозначим проблемы, которые в настоящее время стоят перед отечественной архитектурой и в определенной мере являются интернациональными. Вхождение России в рыночную ситуацию и обслуживание частного заказа обозначило направление сервисной ориентации профессиональной деятельности архитектора. Творчество с конкретным заказом предъявило иное отношение архитектора к инвестору, заказчику, потребителю, наметив новые векторы в создании произведений архитектуры.
10 минут об основах урбанистики
Проблемы развития жилищного фонда. Важнейшей частью проектно-строительной деятельности стала реализация новой для страны жилищной политики: приватизация жилища, новое строительство, модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда и общественных зданий массовых серий 1960-1970-х гг. с учетом требований снижения энергопотребления, сохранения и обновления жилья, снижения темпов выбытия по ветхости, а также получение до-
полнительного жилья. В этих условиях поддержание и развитие жилищного фонда страны является одной из важнейших задач архитектурной деятельности.
Приведем цифры, характеризующие динамику состояния жилищного фонда в России (см. таблицу).
Цифры показывают необходимость самого пристального внимания к этой проблеме, чрезвычайная актуальность которой требует поиска форм незамедлительного ее решения: увеличения ввода жилья, разработки новых технологий ремонта и ревитализации фонда.
Имущественная дифференциация населения России все отчетливее закрепляется в архитектуре жилища. Обозначенная термином «доступность», выделенным как сверхприоритет государства, она вынесена в название одного из четырех приоритетных национальных проектов. В сфере жилища кристаллизуются социальные интересы и предпочтения различных групп населения. Все от-
четливее позиция строительного рынка на продажу квадратных метров «стройварианта» с правом будущего жильца самому создать интерьер своей квартиры. Налицо сочетание демократичности формирования жилой среды обитания и одновременно ее недоступности для многих.
Проблема разработки новой типологии и формирования гуманной среды. Капитализация жизни в России, вхождение ее в поле рыночных отношений, резкий рост цен на землю в привлекательных для проживания и отдыха местах в городах и на пригородной территории привели к целой серии проблем выбора типологической принадлежности объектов, их социальной направленности. Одновременно обострились проблема формирования гуманной среды, «города для всех»: среды для пожилых, детей, людей с ограниченными физическими возможностями, состоятельных людей и людей с небольшим достатком. Как совместить их интересы в пространстве? Растет
Общая площадь жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда (на конец указанного года)*
Показатели 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
Весь ветхий и аварийный жилищный фонд, млн м2 32,2 37,7 65,6 94,6 99,4 98,9 100,1
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, % 1,3 1,4 2,4 32 3,1 3 3
Прирост за год общей площади жилищного фонда, млн м2 215,9 40,5 50 -3,2 90,2 40
* Таблица составлена на основании данных кэ.гиЯгее_^с/пе«_8Йе/рори!а1юп/]1. ]кЬ142.Мт.
Научно-технический и производственный журнал
антагонизм между богатыми и бедными. Как формировать среду с учетом социального, этнического, конфессионального, экономического, демографического факторов? Как архитектурные пространства могут учитываться в разрешении проблем социальных пространств?
Проблемы разработки новых типов зданий для различных групп населения. Появилось множество построек, входящих в систему сервиса и зрелищную сферу: торгово-зрелищные комплексы, мультиплек-сы, универсальные выставочные центры, комбинированные музейно-офисные, музейно-торговые, музейно-банковские пространства. Рождается новый тип многофункционального культурного центра.
Обострились проблемы разработки типов жилых домов для молодежи (социальное, арендное жилище), для людей различных возрастных групп с различными медицинскими показаниями: дома для людей старшего возраста (для общего и индивидуального проживания, в том числе социальное и арендное жилище), дома для людей с ограниченными физическими возможностями; интернаты для взрослых, хосписы и т. д. Требуют обновления нормы проектирования детских и лечебных учреждений. Все шире распространяющееся проектирование и строительство офисов нуждается в учете различных форм деятельности: фриланса, коворкинга, удаленного доступа. На все типы объектов, их структуру оказывают влияние технологии «умного дома», «умного города» [1]. Особое место занимает типология учреждений науки и образования, все больше ориентирующая их на интеграцию.
Реабилитация территорий и построек закрытых и выведенных из городов промышленных предприятий нуждается в поиске новой типологии объектов, создаваемых в них или на их месте. Такой процесс со второй половины XX века идет в различных странах мира, и наметились два пути решения подобных задач: первый -создание выставочных, музейных, студийных пространств и лофтов в бывших промпредприятиях; второй — внесение новых индивидуальных функций научно-инженерной сферы (в основном 1Т) в здания, ставшие памятниками архитектуры, или здания, не являющиеся памятниками. Вместе с тем активное формирование индустриаль-
ных парков вызывает к жизни новые задачи как по нормированию новых типов промзданий, комплексов, так и выстраиванию их отношений со средой жизнедеятельности, природным окружением.
Проблема перехода на рейтинговые системы оценки качества построек, в числе которых российские стандарты, LEED, DGNB, BREEAM и другие, связана с изменением в целом подходов к проектированию в русле зеленых технологий. В настоящее время более 30 стран мира развивают строительство зеленых зданий. В 2011 г. в России разработаны стандарты «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные.
Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания»; «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки». С 1 марта 2013 г. в РФ введен в действие ГОСТ Р 54964-2012. «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».
Необходима четкая стратегия включения рейтинговых систем в практику проектирования и строительства.
Проблема технологии управления и реализации проектов. В выстраивающихся схемах процесса создания недвижимости как цели инвестиционно-строительного процесса происходит перераспределение ролей исполнителей. Солирующая роль архитектора дополняется, а все чаще уступает место новым игрокам из сферы управления и финансов. Плюсы при этом для самой архитектуры не столь очевидны. Очевидна необходимость «выхода» архитектурного творчества за традиционные рамки профессии.
Формирующийся рынок архитектурно-строительной деятельности с активизирующимся участием иностранных фирм, инвесторов, архитекторов, внедрением новых строительных и проектных технологий и техники, новых строительных и отделочных материалов требует постоянного расширения сферы деятельности и знаний современного архитектора. Все более важной составляющей становится проблема разработки, а главное, внедрения в практику новых строительных технологий взамен прежних. Обновленные домостроительные комплексы нуждаются в разработке новой системы «проектирование — заводское изготовление элементов — высо-
Архитектура и градостроительство
котехнологичное строительство объектов». Этот процесс необходимо обеспечить соответствующими материалами (исключительно важным для России материалом — деревом и др.) и техникой строительства.
Проблема формирования систем обслуживания. Реализация в стране социально ориентированной политики требует от архитекторов и градостроителей, ученых-строителей, социологов, демографов, технологов и инженеров разработки новых видов жилых единиц (наряду или взамен системы ступенчатого обслуживания), обладающих набором необходимых для обеспечения комфортного проживания типов и форм услуг, доступных для всех групп населения. Примеры строительства жилья без учета возможностей обслуживания многочисленны. Очевидно, что появление гипермарке-тов и полифункциональных торгово-развлекательных центров за городской чертой требует мобильности населения, не доступной всем категориям жителей города. В этих случаях необходимы смешанные схемы, сочетание различных форм обслуживания.
Охрана исторического наследия. Отчетливо обозначилась проблема охраны исторического наследия: городских панорам, силуэтов исторических центров и проведения охранной градостроительной политики. Налицо «вмешательство» высотных новостроек, разрушающих целостность облика архитектурно-градостроительного наследия исторических центров городов.
Строительство высотных зданий в городах России изменяет традиционный облик, порой кардинально меняя и разрушая исторические перспективы и сложившуюся систему зрительного восприятия ансамблевой застройки. Бурные споры вызвали результаты международного конкурса на проект офисного здания Газпрома в Санкт-Петербурге — Охта-Центр (рис. 1).
Проект-победитель, выполненный британской РМЛМ, представляет собой огромную башню с рядом невысоких построек, окружающих доминанту. Резкое отторжение профессиональной общественности вызвала вертикаль, разрушающая «небесную линию» Санкт-Петербурга. Острые споры о целесообразности такого решения продолжаются в настоящее время. Очевидна и необходимость решения проблем адаптации памятников к требованиям XXI в. В особом внима-
Архитектура и градостроительство
Научно-технический и производственный журнал
нии нуждается наследие авангарда 1920-1930 гг. и в целом памятники архитектуры XX в.
К уже традиционным добавилась проблема сохранения подлинности памятников и облика фоновой застройки при проведении реконструктивных и реставрационных работ. Нередки случаи внедрения в строительную практику имитации, «новодела» вместо сохранения застройки. Новое строительство все больше обращается к решению задач реконструкции, повышения плотности застройки. XXI век именуют и веком реконструкции городов. При этом проблема сохранения наследия резко обостряется.
Проблема энергоэффективности и экологичности зданий. Безотлагательного внимания требуют экологические проблемы российских городов. Целью проектной деятельности все чаще становится создание зеленой архитектуры, обращенной на решение задач экологии и «устойчивости», энерго- и ресурсоэффективности.
Проблема влияния компьютера как инструмента проектировщика на архитектурное творчество, на архитектуру как искусство. В создаваемой человеком искусственной среде архитектура дифференцирует и интегрирует внутреннее пространство, организует внешнее. Резкое усложнение жизнедеятельности человека диктует потребность в новых сверхсложных пространственных структурах, проектирование которых невозможно эффективно осуществить традиционными методами, и выходом стало обращение к компьютеру и цифровым технологиям, в которых заключены как невиданные перспективы для проектировщика, так и неожиданные опасности, включая утрату творческой идентичности на фоне растущего совершенства программного обеспечения.
Все названные проблемы сформировались, и процессы, порождающие новые явления в российской архитектуре, происходят на фоне перехода мировой цивилизации в пространство постиндустриального общества, его информационно-кибернетическую и гуманистически-ноосферную версии. В зависимости от их соотношения векторы архитектурного процесса колеблются в поисках ответов в том или ином типе здания, его инженерном совершенстве или стилевой окраске.
Несмотря на пестроту и многоли-кость современного архитектурного
процесса в России, его можно с известной долей условности охарактеризовать следующими основными направлениями [2]. Традиционно продолжает развиваться линия модернизма.
Наиболее активно в новой России проявил себя постмодернизм, принесший раскрепощение в композиционных поисках после жестких рамок типового проектирования и живущий в многочисленных интерпретациях и аллюзиях российских зодчих (арх. Ю. Гнедовский, В. Красильни-ков и др. — «Красные холмы», Москва, 2002-2005; арх. А. Харитонов, Е. Пестов — банк «Гарантия», Нижний Новгород, 1995, 1999; арх.
А. Воронцов, В. Свистунов, И. Кузнецов — торговый центр «Наутилус», Москва, 2000; арх. А. Чернихов — Центр реабилитации детей, страдающих аутизмом, Москва, 2002).
Российские зодчие, возможно, не столь педантично вникают в философско-эстетические глубины зарубежных трактовок направления и поиск их смысловых и формальных идентификаций, но уверенно варьируют приемы, уже ставшие историей архитектуры XX в. Наряду с этим активно развивается эклектика, пример ее — жилой дом «Патриарх» (арх. С. Ткаченко, О. Дубровский и др., Москва, 2000).
Невелико, но вполне осознаваемо направление неоклассики — «Невский палас» (арх. Ю. Земцов, Санкт-Петербург); жилой дом с магазином (арх. Е. Раппопорт, В. Попов, Санкт-Петербург, 2002). Особую линию представляют ордерные интерпретации и цитаты — «Помпейский дом» (арх. М. Белов, Москва, 2005), работы М. Филиппова (Санкт-Петербург).
Новаторское направление объединяет формальные поиски, опирающиеся на стилистику авангарда и технологические новации хайтека (одна из первых работ — «Дом-окно в III тысячелетие», Ю. Платонов, А. Кузьмин и др., 1990-2004). Наиболее отчетливо в этом постоянно извергающем гибриды новаций вулкане выделяется
Рис. 1. Проект Охта-Центра. RMJM. Санкт-Петербург, 2006г.
Рис. 2. Гостинично-развлекательный комплекс Intercontinental Shimao Wonderland Shanghai, Atkins
Рис. 3. Здание швейцарской страховой компании Swiss Re. Арх. Н. Фостер. Лондон, 2004 г.
Рис. 4. Радиобашня на Шаболовке. Инж. В.Г. Шухов.
Москва. 1922 г.
Рис. 5. Дворец водного спорта. Строительный институт Шеньчжень, PTW Architects, ARUP, АшШНаПекин, Китай, 2008г.
Научно-технический и производственный журнал
Архитектура и градостроительство
Рис. 6. Многофункциональный комплекс «Опера». Арх. М. Рейнберг, А. Шаров. Санкт-Петербург, 2005г.
Рис. 7. Жилой дом. «С. Киселев и партнеры». Москва
линия минимализма (арх. С. Киселев, В. Плоткин, А. Скокан). Своей сдержанностью и ясностью она роднится с авангардно-модернистской тягой к чистоте формы, а контрастируя с декоративностью деконструктивизма и «электронного барокко», спорит с ними в демонстрации новизны и современности.
Несовпадение веера социального времени культуры современной России и форм художественной культуры объясняет и их несоответствие вызовам времени астрономического, линейного, устремленного из прошлого в будущее, диалектически обращающегося к наследию и не учитывающего разрывы в российском архитектурном процессе 1940-1950 и 1955-1960-х гг.
Развитие российской культуры происходит во взаимодействии процессов глобализации и регионализации, возросшего влияния массовой культуры, охвативших все сферы жизни общества. Очевидно, что архитектура XXI в. рождается через интеграцию глобальных универсальных течений и тенденций, местных архитектурных и культурных традиций.
Каковы тенденции, или тренды, развития современной архитектуры?
Все большее влияние на архитектуру оказывает стратегия устойчивого развития, опирающаяся на принципы конференции ООН по окружающей среде и развитию «РИО-92», подтвержденные через 20 лет на «РИО-2012», проявляющаяся, с одной стороны, в ориентации архитектурных поисков на закономерности и особенности построения форм природы, с другой — на решение проблем экологии, энерго- и ресурсосбережения с помощью новейших промышленных технологий. Рассмотрим три важнейших фактора, влияющих на архитектуру.
Природа в архитектуре. Архитектура переходит от противодействия природе к «нейтралитету» в создании «второй природы», возможно, «симбиозу» в дальнейшем. Поиск взаимодействия архитектуры и природы строится на выявлении закономерностей и особенностей органической природы и попытках заимствования их проектировщиками — инженерами и архитекторами [3].
Ближе всего к такому подходу в 1970-1980-е гг. была бионика. Сеть паутины приверженцы бионического метода рассматривали как своего рода прообраз формопостроений ван-товой архитектуры. Множество построек в разных странах мира воплотили бионические идеи.
Один из примеров -Олимпийский стадион в Мюнхене, сооруженный в 1972 г. Несмотря на то что авторы проекта — Фрай Отто и Понтер Бениш отмечали свое стремление создать силуэт покрытий стадиона и прилегающих пространств, подобный контурам Альпийских гор, видимых на горизонте, аналогия с паутиной в решении покрытий вполне уместна. В настоящее время разработки белгородских ученых (БПТУ им. В.П. Шухова) выстраивают вектор поисков архитектурных форм в сфере «неорганической природы» — природы кристаллов, застывшей лавы, метеоритов, назвав это «геоникой» [4]. Такой подход требует особого внимания и глубокого анализа, ибо архитектура издревле использует формы кристаллических структур для создания образов тех или иных зданий и сооружений.
Закономерности и особенности климата мест, строение ландшафта всесторонне учтены в типах народного жилища. Его традиции природосо-образности продолжают:
— геоурбанизм как реабилитация ландшафта и создание сообразных
ему произведений архитектуры («архитектура земли», лендарт и другие направления). Пример — Южная Корея, Сеул — воссоздание реки Чунгеч-хон на месте ранее устроенной вместо реки многополосной трассы в центре города;
— экоурбанизм как сохранение естественных форм ландшафта и встраивание в него архитектурных форм (отель «Сонг-Янг», проект «Ат-кинс Групп», Китай, рис. 2), как бы невидимых с обычных точек зрения.
Инженерные технологии как стимул формообразования в архитектуре. Появление благодаря развитию технологий новых строительных и отделочных материалов и новых способов обработки традиционных материалов вносит свой вклад в процесс создания произведений архитектуры, рождения новых форм, меняет характер восприятия традиционных, выполненных в новых материалах. Получают все большее распространение технологии быстрого возведения зданий.
Рис. 8. «Коппер-хаус». Арх. С. Скуратов и др. Москва, 2004 г.
Рис. 9. Walter Towers. Bjarke Ingels Group. Прага
Архитектура и градостроительство
Научно-технический и производственный журнал
Рис. 10. Проект Anti-Smog. Арх. В. Каллебо. Париж
Рис. 11. Стадион с солнечными батареями. Арх. Т. Ито. Тайвань
Материалы определяют возможности перекрытия архитектурных пространств. Размер: каким ему быть? Камень, дерево, металл, кирпич, бетон, пластики, их сочетания дали ответы на этот вопрос: от сводчатых каменных перекрытий древности до ван-товых конструкций покрытий аэропортов и спортивных сооружений, торговых центров ангарного типа (рис. 3-5).
Важно заметить, что технологии проектирования и производства работ, учитывающие палитру современного материаловедения, все больше и больше определяют успешность осуществления архитектурных идей.
Красота же была и остается вектором и целью реализации устремлений и творческого вдохновения зодчего.
Чилийский теоретик архитектуры Х. Борчер называет архитектуру «языком неутомленной неподвижности». Именно материал обеспечивает «неутомляемость» и «неподвижность» архитектуре.
Из множества векторов развития архитектурного материаловедения все ярче выделяются два: создание новых (не существовавших ранее) материалов и все более полное раскрытие различных свойств традиционных благодаря новым технологиям обработки, будь то природный камень, кирпич, дерево, бетон, металл, стекло. Зачастую новая архитектура ассоциируется именно с новым материалом.
Загадочная, непредсказуемая, мгновенно меняющаяся игра бликов и отражений на фасадах, апплициро-ванных супрематическими сочетаниями стекла, металла и камня, или сложные криволинейные конструкции из металла и пластика сменили объемную телесность кирпично-бетонных оштукатуренных фасадов времени модернизма. Надолго ли?
Кристаллические структуры многофункционального комплекса «Опера» (М. Рейнберг, 2005, Санкт-Петербург, рис. 6) построены на преобладании стекла в решении фасадов и строгом геометризме структуры. Элегантность, присущую дому в Зубовском проезде в Москве (ООО «Сергей Киселев и партнеры», 2006, рис.
7), обеспечили изысканные, строго пропорци-онированные сочетания стекла, камня, металла в композиционном решении фасадов здания. «Коппер-Хаус» — «Медный дом» (арх. С. Скуратов и др., 2004, рис. 8) демонстрирует нетрадиционное взаимодействие стекла и металла, по существу обеспечивая новизну образа дома.
Поиск оригинальной архитектурной формы сопровождается выбором материалов и их фактур, наиболее точно и полно соответствующих форме сооружения, словно раскрывающих ее пластические свойства (рис. 9). Традиционная тектоника, опирающаяся на законы земной гравитации, сменяется в конце XX в. появлением множества «невозможных» форм, оторвавшихся от земли и словно парящих в пространстве. Примеры еще редки в России, но многочисленны в зарубежной архитектуре. «Неутомленная неподвижность» этих зданий фиксируется оболочкой полированного титана, тонированной меди, ржавого металла, поликарбоната или алюкобонда.
Не менее оригинальны формы, созданные из гнутого клееного дерева, подобные цветочным лепесткам или зооморфным оболочкам.
«Зеленые технологии» влияют на облик существующих и реконструируемых зданий. Таков проект превращения здания ТЭЦ в «Магическую гору», разработанный в 2002 г. для города
Рис. 12. Проект городского центра Отап-^о. МУКОУ. Сеул, Южная Корея
Рис. 13. Cybertecture Egg. James Law Cyber-tecture. Мумбаи, Индия
Эймса (США) группой «Геро-9». Механистичная промышленная архитектура ТЭЦ становится «горой цветов». Этот эффект достигается за счет конструкции фасада, которая представляет собой слоистую оболочку, содержащую мини-ветряки, вырабатывающие электроэнергию (Metamorph 9 / International Architecture Exibition / -Fondationi La Biennale di Venezia, 2004). Сама тема слоистого фасада и встраивания в него турбин, ветряков и других устройств становится все более популярной.
Бельгийский архитектор Винсан Каллебо предложил улучшить экологическую обстановку в Париже с помощью двух необычных построек. Проект В. Каллебо «Антисмог» (рис. 10) предполагает создание комплекса из двух гигантских башен, каждая из ко-
Научно-технический и производственный журнал
Рис. 14. Библиотека «Гвадалахара». NOX. Мексика, 2005г.
Рис. 15. Ворота Столицы (Capital Gate). RMJM. Высота 160 м, наклон 18 град. Дубай, ОАЭ
Рис. 16. Ningbo Tengtou Pavilion, Shanghai Expo. Арх. Ван Шу.
Шанхай, Китай, 2010г.
Рис. 17. Vertical Courtyard Apartments, 2002—2007. Hangzhou, China. Арх.
Ван Шу. Ханчжоу, Китай
торых по-своему будет очищать воздух. Первую, получившую название «Солнечная капля», планируется покрыть слоем оксида титана, оказывающего благоприятное воздействие на воздух под действием ультрафиолетовых лучей. Вторая башня названа «Ветряной». Построенная в виде эллипса, она должна вращаться под действием ветра, а внутри ее сады будут очищать воздух. Таким образом, инновационные технологии не только участвуют в создании новых архитектурно-пространственных решений и форм, но иногда и предопределяют их функциональное назначение, как в случае с проектом «Антисмог» (kvadroom.ru).
Изложенное дает возможность отметить, что прогресс в создании инженерного оборудования все активнее влияет на внешний вид здания и на его интерьер, обеспечивая качественно новые возможности создания комфорта потребителям, открывая новые возможности поиска образных решений. Это уже не Центр Помпиду (Р. Роджерс и Р. Пьяно) в Париже с вывернутыми наружу «внутренностями». Сами новейшие решения хайтека не столь радикальны.
Интересны поиски в сфере архитектуры гелио- и ветроулавливающих форм. Ориентация на ветроэнергетические подходы предполагает как разработку и устройство ветротурбин, так и программирование форм зданий в зависимости от воздушных потоков.
Использование энергии солнца становится все более и более распространенным способом формирования энергосберегающих систем. Одним из примеров оригинального сочетания архитектурной формы сооружения и солнечных панелей покрытия стал построенный по проекту японского архитектора Т. Ито в 2009 г. Солнечный стадион на Тайване (рис. 11). Стадион сверху перекрыт солнечными панелями, смонтированными в форме, напоминающей тело дракона. Кровля из панелей окаймляет футбольное поле.
Стадион, рассчитанный на 50 тыс. зрителей, спроектирован в соответствии с требованиями параметров зеленых зданий, это относится к материалам, энергосбережению, благоустройству окружающего «солнечного дракона» пространства. Система солнечных панелей обеспечивает постройку электроэнергией, а избыточ-
Архитектура и градостроительство
ную энергию можно продавать в периоды без игр.
Уже не проекты, а практика показывает, что инженерные решения обеспечивают не только экономию энергозатрат, но и выработку энергии самими зданиями и, более того, «борьбу» зданий за чистоту атмосферы, сокращение всевозможных вредных выбросов, использование энергии солнца, ветра, природных источников воды для отопления и охлаждения (рис. 12, 13).
Реализация энергоэффективных технологий в архитектурной практике и более широко зеленых технологий успешно осуществляется при создании полноценных социально ориентированных функционально-пространственных сценариев объектов, предусматривающих эффективное использование природно-климатических и ландшафтных условий, учет их не только как влияющих факторов, но и как средств архитектурного языка (использование особенностей рельефов, встраивание объекта в его структуру, влияющую на очертание и структуру здания, формообразование с учетом возможностей ветроэнергетической параметрики, использование гелиосистем как формообразующих элементов и т. п.) и, безусловно, характера окружающей застройки (новой или исторической).
Саморазвитие в архитектурном формообразовании. Начало XXI в. отличается все большей широтой обращения архитектуры к сферам этики и, как уже отмечено, технологий. Отвечая на запросы концепции устойчивого развития, по существу, этической в своей сути, архитектура ищет адекватные формы воплощения образов времени.
Стилевые поиски архитекторов, происходящие в русле глобализации, ставят перед проектировщиками во всем мире проблему культурной идентичности. Представляется, что четыре основных потока определяют современное течение архитектурного процесса: • Наиболее значимый — это поток, обслуживающий массовые потребности населения планеты, прежде всего в жилище. Все множество объектов может быть представлено в виде трех пластов архитектуры: профессионального стилевого творчества, воспроизводства традиций народного зодчества и «третьего пласта» [5]. В известной мере это направление консервативно, нацелено на учет экономических возможностей широких слоев на-
Архитектура и градостроительство
Рис. 20. Water-Scraper, или «Водоскреб». Арх. Sarly Adre Bin Sarkum
Рис. 18. Проект «Невидимая башня», GDS Architects, Южная Корея
Рис. 19. Solus4 Marine Research Center, Бали
селения, нормативную базу, учитывающую социально-экономические возможности страны.
• Поток, связанный с деятельностью трансконтинентальных корпораций, являет собой выраженное глоба-листское течение в архитектуре. Новые технологии, универсальные стандарты и приемы, экспорт стилистики архитектурных форм характеризуют объекты, созданные в его русле.
• Поток высокой моды, проектов «звезд архитектуры» задает тренды во всемирном масштабе и является притягательным полем для большинства архитекторов. Произведения мастеров звездной команды отличаются выразительностью и узнаваемостью, становящейся брендом, многократно цитируемым. Это направление развивается по законам современного искусства, инкорпорируя все возможные достижения науки и техники, сокровищ мировой культуры в творческой лаборатории лидеров профессии в нередко шокирующие образы новой архитектуры (Ф. Гери, Н. Фостер, З. Хадид, Р. Кол-хаас, Т. Херцог и П. де Мерон. ).
В рамках законов этого жанра следуют работы ряда архитектурных групп. Зачастую они становятся символами, визитной карточкой, туристским брендом городов, а иногда и стран. Подобными методами создают свои объекты группы BIG, MAD, NOX, PLOT, RMJM (рис. 14, 15).
Особое место в архитектурном процессе нового века занимает линия
углубления в традиции культуры в поисках фундаментальных оснований форм «архитектуры места». Один из ярких примеров таких поисков — творчество лауреата Притцкеровской премии 2012 г. китайского архитектора Ван Шу (рис. 16, 17).
Для всех четырех потоков архитектурного процесса характерно активное включение в проектирование и строительство цифровых технологий, которые оказывают влияние не только на отдельно взятый объект, но и на саму систему организации среды жизнедеятельности.
Завершая, отметим качественно новую потребность в интеграции усилий архитектора и инженера в создании новой архитектуры. Конструкция и материал всегда влияли на образы архитектуры (примеры творчества В. Шухова — Н. Фостера, «Водный куб» в Пекине, новейшие постройки в Дубае), но в настоящее время роль инженерной составляющей возрастает.
Материалы становятся символом новизны. Постройки из стекла занимают особое место в застройке современных городов. Это и безжизненные кристаллы (Сити), и умелая декорация жизни (Антибашня в Южной Корее, 2013, авторами проекта Бюро CDS Architects она позиционируется как исчезающая, или невидимая постройка). Тем самым архитектура как бы встраивается в окружающий ландшафт, стараясь не противопоставлять себя его сложившимся очертаниям природных форм (рис. 18).
В настоящее время архитекторы обращают свои поиски не в далекое
Рис. 21. Проект подземного небоскреба, площадь Конституции, Мехико
будущее, а в обозримое настоящее. Города в космосе, на земле, на воде, под землей становятся все ближе и осуществимее. Получают развитие формы архитектуры земли (из земли); плетеной архитектуры, а также подземной, подводной, космической архитектуры — все эти направления сочетают образы реального и фантастического (рис. 19-21).
Описанное является палитрой средств современного архитектора. Таков, в общем, спектр проблем, стоящих перед ним.
1. Есаулов Г.В., Есаулова Л.Г. «Умный город» как модель урбанизации XXI века // Градостроительство. 2013. № 4. С. 27-31.
2. Есаулов Г.В. Новейшее время в архитектуре России: конец XX — начало XXI века // Архитектура изменяющейся России: состояние и перспективы. М.: КомКнига, 2011. С. 107-170.
3. Есаулов Г.В. О взаимовлиянии и взаимодействии природы и архитектуры // Сб. научн. тр. Архитектура в природе. Природа в архитектуре. Кисловодск, 2009.
С. 30-58.
4. Лесовик В.С. Архитектурная геоника // Жилищное строительство. 2013. № 1. С. 9-12.
5. Есаулов Г.В. «Третий пласт» в архитектуре Юга России XX века / Academia. Архитектура и строительство, 2009. № 3. С. 36-38.
Источник: cyberleninka.ru
Манифест5 проблем современной архитектуры
Раньше главным заказчиком архитекторов были правительства, и архитектура часто становилась орудием пропаганды — например, так произошло после Второй мировой войны, когда американское правительство пыталось использовать идеи модернизма в борьбе с идеологическим врагом. Известные архитекторы работали в основном над проектами общественных зданий, университетов и музеев. После массовой приватизации, которая происходила в США и Великобритании в 1970-е и 1980-е, самыми крупными заказчиками стали корпорации. Даже учебные заведения часто находятся в собственности крупных компаний, и поэтому основной заказчик архитекторов — это финансовая элита, интересы которой отличаются от интересов простых людей.
Приватизация оказала большое влияние на современные города. Во многих из них именно в последние десятилетия выросло неравенство между тем, как живут хорошо образованные и обеспеченные люди и остальное население. Кроме того, во многих крупных городах сократилось число представителей среднего класса.
2 Архитектура часто становится орудием пропаганды
Многие известные архитекторы постоянно перемещаются по миру и строят в разных странах. Каждый раз они сталкиваются с незнакомой средой, в которой порой бывает непросто разобраться. Многие известные архитекторы в последнее время работали в странах Персидского залива. Их часто обвиняли в том, что эти здания были построены только для привлечения туристов и не имеют ничего общего с особенностями той или иной страны.

Performing Arts Centre на острове Саадият в Абу-Даби (проект Zaha Hadid Architects)
Архитекторы оказываются в сложной ситуации: соглашаясь работать по заказу правительства той или иной страны, они принимают определённую программу, продиктованную, например, авторитарными правителями арабских стран. При этом обычно архитекторам-звёздам заказывают проекты культурных институций и общественных зданий. Например, на острове Саадият в Абу-Даби, создание которого планируется завершить в 2018 году, будут музеи по проектам Захи Хадид, Фрэнка Гери, Нормана Фостера, Жана Нувеля и Тадао Андо. Многие знаменитые архитекторы работают сейчас в этом регионе, но часто их идеи не отражают реальной ситуации в стране и зависят от правительства, а сами архитекторы становятся орудиями пропаганды.
3 Идеи быстро устаревают
Архитекторы всегда работают с реальностью, с современными им проблемами. Однако на деле получается, что они всегда отстают, потому что даже если проект строится очень быстро, их идеи устаревают к моменту постройки здания. Сейчас наиболее активны те архитекторы, карьера которых началась в 1970-е или 1980-е годы. Их мировоззрение сформировалось в ту эпоху, и они плохо подготовлены к тому, что происходит сейчас: идеи, которые были важны во время их учёбы и в первые годы карьеры, не применимы к миру, в котором мы живём сегодня.
4 Архитекторы оторваны от людей
Другая важная проблема — зависимость архитекторов от крупных девелоперов. Им выгодно строить огромные, похожие друг на друга, кварталы в кратчайшие сроки, в то время как большинство архитекторов понимают, что город — это пространство различных политических, социальных и национальных меньшинств, и разнообразие — важное условие жизни в большом городе.
Если вы хотите помочь людям, то лучше быть социальным работником, чем архитектором. В большинстве случаев клиент архитектора — это девелопер, и архитектор работает именно ради его интересов. Девелоперская компания может иметь консультантов или работать с фокус-группами, но они не дают представления о том, чего хочет публика. К сожалению, в существующей системе не может быть прямого диалога между архитектором и публикой, которая использует построенное им здание, и у архитектора нет контроля над проектом. Это относится даже к гражданским постройкам, публичным библиотекам.
5 Многие критики недостаточно квалифицированны

Одна из причин, по которой крупные девелоперы не спрашивают мнения публики о планируемых проектах, — неподготовленность людей. Обычно публичные обсуждения — это очень непродуктивный способ работы над проектом. Многие архитектурные блогеры тоже очень неквалифицированны: в их рассуждениях можно встретить много клише, связанных с архитектурой.
С другой стороны, мне кажется важным, что каждый вовлечён в дискуссию об архитектуре — будь то простой блогер или Бэнкси, написавший критическую статью об One World Trade Center. Бэнкси прав: башня One World Trade Center — это один из самых скучных небоскрёбов, которые я видел за последнее время. Многие надеялись, что на этом месте появится что-то стоящее, но в результате получилось здание, которое не имеет никакой ценности. Силуэт башен-близнецов выделялся на горизонте, а проект One World Trade Center очень проигрывает им.
Источник: www.lookatme.ru
Основные проблемы современной архитектуры и градостроительства
Углубление социальных противоречий западноевропейского общества в начале века, возможно, наиболее отчетливо сказалось в архитектуре. Стихийный рост городов, численности населения, занятого в промышленном производстве, и несоответствие этому темпов жилищного строительства повлекли за собой переуплотнение застройки, повышение этажности, неизбежное уничтожение зелени. Все это вызвало к жизни массу проблем, которых не знали предыдущие эпохи.
Одно из первых направлений рубежа XIX—XX вв., как говорилось выше,—модерн (Ар Нуво —в Бельгии, Сецессион —в Австрии, Югендстиль —в Германии, Либерти —в Италии и т. д.) коснулся не случайно прежде всего архитектуры и прикладного искусства, т. е. тех видов искусства, которые несут функциональную нагрузку. Для модерна характерно выявление функционально-конструктивной основы здания, подчас вообще отрицательное отношение к классическим традициям ордерной архитектуры, использование пластических возможностей «ковкости» (и отсюда широкое введение кривых линий) металла и особенностей железобетона, применение стекла и майолики. Все это несомненно привело к новому образу зданий, таких, как доходные дома, богатые особняки, банки, театры, вокзалы. Но в модерне было также много стилизаторского декоративизма с обилием кривых линий и нагромождением декоративных элементов, склонности к иррационализму (например, в творчестве Антонио Гауди, иногда доходящего до мистики: собор Ла Саграда Фамилиа, 1883—1926, Барселона).
После Первой мировой войны разрушение структуры старых феодальных городов стало еще более интенсивным. Самым значительным направлением архитектуры западных стран в 20-е годы явился функционализм, выросший из рационального направления модерна и воплощенный в Баухаузе — идеологическом, производственном и учебном центре художественной жизни не только Германии, но и всей Западной Европы; глава и идеолог направления—В.
Гроппиус. Первый этап истории Баухауза—высшей школы строительства и художественного конструирования — связан географически с Веймаром (1919—1925), второй—с Дессау (1925—1932). Классический пример этого направления—здание Баухауза в Дессау (архитектор В. Гропиус, 1925—1926).
Функционализм был противоречивым архитектурным направлением, что нашло выражение во многих его крайностях: в утилитаризме Бруно Таута, в техницизме и рационализме Л. Мис ван дер Роэ. Много способствовал распространению принципов функционализма Шарль Эдуард Жаннере, более известный в истории как Ле Корбюзье (1887—1965), начавший свой творческий путь еще с кубистами, и вместе с Озанфаном, олицетворявший его последний этап — орфизм (см. их совместное сочинение 1918 г. «После кубизма»), один из крупнейших архитекторов XX в., внесший принципиально важные как функциональные, так и формально-эстетические решения, под знаком которых архитектура развивалась в течение десятилетий, а от многого не отказалась и по сей день. Достаточно вспомнить «пять принципов» Ле Корбюзье: дом на столбах, сад на плоской крыше, свободная планировка интерьера, горизонтально-протяженные окна, свободная композиция фасада. Но Корбюзье никогда не абсолютизировал функционализм (в какой-то степени неким промежуточным явлением между модерном и функционализмом явился стиль, который выразился более всего в оформлении интерьера, в костюме, моде, утвари —«Ар Деко», возникший после выставки «Декоративное искусство» в Париже в 1925 г. смесь неоклассицизма, модерна, отголосков дягилевских «Русских сезонов», экзотики Востока — при превалировании прямых линий и жесткой конструкции функционализма Баухауза).
Современная архитектура многим обязана именно функционализму 20-х годов: новыми типами домов (галерейные, коридорного типа, дома с двухэтажными квартирами), плоскими покрытиями, удачным решением экономичных квартир со встроенным оборудованием, рациональным планированием интерьера (введение передвижных перегородок, звукоизоляция и пр.). Принципы функционализма, оказавшего решающее воздействие на все последующее развитие современной архитектуры, были таковы, что их можно было использовать применительно к национальным особенностям разных стран (многоэтажная застройка только в городских районах с высокой плотностью населения и сохранение коттеджей на окраинах — в Англии; самые высокие жилые здания — в предместьях Парижа или Берлина). Наряду с функционализмом в 20-е годы существовали такие направления, как архитектурный экспрессионизм (Э. Мендельсон), национальный романтизм (П. Крамер, Ф. Хёгер) и другие, но их влияние на дальнейшее развитие архитектуры незначительно.
В 20—30-е годы сложились две противоположные теории строительства — урбанистическая и дезурбанистическая. Создатель и сторонник первой Ле Корбюзье в осеннем Салоне 1922 г. в Париже представил диораму «Современный город на 3 млн. жителей», а в 1925 г.—проект реконструкции центра Парижа (так называемый «План Вуазен»), превращавший столицу Франции в комбинацию небоскребов в сочетании со свободными пространствами зелени и сложной сетью транспортных артерий. В этих планах была выражена идея города будущего, ничего общего не имеющего со сложившимися преимущественно в средние века европейскими городами.
Дезурбанисты шли от теории Э. Хоуарда, выдвинутой им еще в 1898 г. в ставшей всемирно известной книге «Завтра»,— от его идеи строительства небольших городов-садов со свободной планировкой, общественным парком в центре города и размещенными в зелени административными и культурного назначения зданиями, с жилыми домами индивидуального плана, с не подлежащим застройке кольцом сельскохозяйственных территорий вокруг города-сада.
Подобные города с населением не более 32 тыс. человек должны были образовывать группы вокруг большого города (но не более 60 тыс. человек). Эти «ситэ-жарден» мыслились как самостоятельные промышленные рабочие поселки или как большие жилые комплексы в предместьях больших городов. Примером может служить комплекс Ла Мюетт в Дранси под Парижем (архитекторы Эжен Бодуэн и Марсель Лодса, 1930—1934). Идея городов-садов была особенно близка английским архитекторам (учитывая английский вкус, приверженность англичан к отдельным коттеджам, к непременному саду при жилье).
Но город-сад на практике превращался либо в город-спальню, либо в роскошные виллы богатых людей. Родились и крайности теории. Так, немецкий архитектор Б. Таут в книге «Распад городов» отрицает города вообще, предлагая взамен поселки в 500—600 человек под лозунгом «земля—хорошая квартира».
В 1930 г. в работе «Исчезающий город» американский архитектор Ф. Л. Райт выдвинул проект идеального поселения, где на каждую семью приходится акр земли, главным занятием людей становится земледелие, а общаются они между собой благодаря автомобилю. Город как таковой вообще не нужен, ибо современная техника дает в распоряжение людей скоростной транспорт, а дома у каждого есть телевизор (теория американского архитектора В. Гоэна). Так, в XX в. одновременно началось, с одной стороны, прославление механизированного стандарта быта, а с другой — борьба с ним.
На протяжении последующих десятилетий обе теории варьируются и, несмотря на противоположность, в чем-то переплетаются. От дезурбанистических проектов идет, например, идея разобщения пешеходных и транспортных потоков, ставшая важнейшим принципом современного градостроительства.
Еще в 1944 г. первым примером решения проблемы разуплотнения больших городов благодаря городам-спутникам послужил проект «Большого Лондона». Проект восьми таких городов в радиусе 30—50 км от Лондона принадлежит английскому архитектору Патрику Аберкромби. Позднее появились «Большой Париж», «Большой Нью-Йорк» и т. д. Старые города развивались от центра к периферии с постепенным снижением плотности населения к окраине. Теперь все чаще в центре города остается лишь административный узел.
Территориальное планирование по районам, освоение больших пустых территорий для городов-спутников вызывает к жизни множество новых проблем: сохранение природных богатств, выбор прокладки трасс и др.
В 30—40-х годах и в Англии, единственной стране, сохранявшей в архитектуре исторические стили (неоготику, неоклассику и пр.), побеждает функционализм континентальной Европы. Большое значение имел тот факт, что в Англии в это время живут бежавшие из нацистской Германии выдающиеся представители этого направления В. Гроппиус и Э. Мендельсон (объявленный «большевистским» Баухауз был закрыт в 1933 г.). Верные национальным традициям, английские архитекторы умело сочетали этот принцип и новаторство даже в таком международном стиле, как функционализм. Так, шекспировский Мемориальный театр в Стрэдфорде на Айвоне (архитектор Элизабет Скотт, 1932), облицованный кирпичом разных цветовых градаций и отделанный в интерьере разными породами дерева, при общей композиции объемов, характерной для архитектуры функционализма, имеет романтический и поэтический облик, свободный от всякой стилизации и органичный английскому зодчеству.
В межвоенный период для архитектуры всей Европы характерно применение металлических и железобетонных каркасов, строительство жилых домов из сборных железобетонных панелей. Поиск новых форм в связи с новыми конструктивными системами часто приводил к преувеличению роли техники, фетишизации технической проблемы.
Интернациональному стилю конструктивизма и функционализма Корбюзье и Мис ван дер Роэ (с «легкой руки» которого весь мир наводнен зданиями с навесными стеклянными стенами и плоскими крышами типа отелей «Хилтон») как бы противостоит «органическая архитектура» Ф.-Л. Райта с ее акцентом на уникальность, неповторимость архитектурного образа, сообразованность со вкусом заказчика, а, главное, с идеей проникновения здания в природу, в пейзаж (или, наоборот, пейзажа в здание. См. знаменитое творение Райта «Дом у водопада», или «Дом-водопад» в Пенсильвании). Во имя «идеи непрерывности» Райт призывал к отказу от ордерных принципов: от пилястр, колонн, балок, карнизов, антаблементов. Иногда здание стилизуется под природные формы: дерево, пчелиный улей и т. д., ибо, по мысли сторонников «органической архитектуры», «биологичность» придает живописность, романтизм архитектурному образу.
После Второй мировой войны проблемы градостроительной практики при всей ее масштабности и именно в силу этого не уменьшились, а увеличились. В осуществлении больших и интересных градостроительных проектов определенной преградой является частная собственность на землю. Не случайно исследователями было справедливо подмечено, что подобные проекты были воплощены на территории городов, почти совершенно разрушенных войной, как, например, в английском городе Ковентри.
Развитие техники в середине и особенно во второй половине XX в. предоставило архитекторам необычайное разнообразие практических возможностей и художественных приемов. Пространственные железобетонные конструкции используются как кривые (параболы, эллипсы, «висячая седловидная форма» и пр.), создающие новый эстетический образ. Качества «предварительно напряженного» бетона позволяют увеличивать пролеты перекрытий, что с особым успехом применяется при строительстве мостов, художественный образ которых в последние десятилетия наиболее ярко отражает эстетику инженерных сооружений. Сочетание логического и художественного мышления, рационализма и образности, возможно, нигде так не проявляется, как в транспортных сооружениях (развязки больших городов, эстакады, многоярусные гаражи и т. п.), хотя именно транспортная проблема в современных городах является и наиболее сложной, и во многом нерешенной.
Создание гигантских новых городов (правда, не в Европе, а в основном в Латинской Америке, например Сан-Паулу или Бразилиа в Бразилии) — свидетельство высокой профессиональной культуры, художественного мастерства в решении объемно-пространственной застройки. Оно вызвало к жизни такие проблемы, как соотношение вертикалей (высотных) и горизонталей (протяженных домов); соотношение зданий с зелеными массивами; проблемы использования материалов разных фактур и качества: от облегченных, вроде алюминия и разных пластических масс, пленочных синтетических материалов, до испытанного веками дерева; наконец, проблемы полихромии, особенно важные при стандартизации современного строительства.
В современной архитектуре нет какого-либо одного ведущего направления. Как и у живописцев, скульпторов, графиков современности, в творчестве архитекторов сосуществуют и борются тенденции новаторские и консервативные. Наиболее распространенным типом построек общественного назначения в Западной Европе являются те (идущие от техницизма Л. Мис ван дер Роэ), художественный образ которых можно было бы определить как «стеклянный параллелепипед»: прямоугольный металлический каркас с навесными стеклянными стенами-ограждениями, не являющимися несущими опорами (контора фирмы Тиссен в Дюссельдорфе, архитекторы Г. Хентрик и Г. Петшнигг, 1957—1960).
В Германии наблюдается соединение функционализма с экспрессионизмом и органической архитектурой Ф. Л. Райта. Так работает в основном Ганс Шарун (Шароун).
В последние годы жизни искания Шаруна сосредоточены были в основном на трех архитектурных типах: жилой дом (жилой квартал), школа и театр, вернее, театрально-концертное здание, ибо, по мнению мастера, именно эти три типа оказывают наибольшее влияние на духовную жизнь людей. В 1956—1960 гг. в одном из кварталов Штутгарта по его проекту построены два жилых дома («Ромео» и «Джульетта»). Сложно решены пространственные связи квартир между собою (на одном этаже их планировка нигде не повторяется, широко применяется неправильной формы комната), а также двух домов друг с другом и с ландшафтом. По собственному определению автора, в задачу входило «дать простор импровизации. предоставить свободу выбора». В здании Берлинской филармонии Шарун спроектировал зал на 2200 мест так, что оркестр помещается в центре зала, зрители из любой точки зала видят, сидящих напротив и оркестр, что делает их не только слушателями, но и соучастниками концерта; по выражению одного исследователя, создается полное впечатление, что находишься внутри оркестра.
Современные архитекторы работают как над решением образа отдельного здания, так и города в целом. Разочарования в возможностях улучшить сложившийся облик города породили много интересных идей новых городов: параллельных (рядом с Парижем — новый Париж, новый Рим, новый Лондон и т. д.; французский проект), надводных (японский проект), мостовых (на мостах над водой, американский проект), «динамического города» («диаполис» греческого архитектора К. Доксиадиса).
Особый тип зданий представляют городские особняки и виллы, в строительстве которых принимают участие, как правило, самые крупные современные зодчие. Благодаря неограниченным материальным возможностям здесь воплощаются идеи вписанности здания в пейзаж, на самом высоком техническом уровне решаются проблемы комфорта (автоматика, акустика, светотехника, радиоэлектроника и пр.).
В последние годы значительно меньше внимания стало уделяться проблеме массового жилища, квартире многоэтажного дома, проекту квартала, целого поселения в сравнении с решением образа уникального здания. Это следствие разочарования многих молодых архитекторов в «переустройстве общества архитектурою». От органической архитектуры Райта, проповедующей, как уже говорилось, связь с природой, обращение к человеческой индивидуальности («в мире должно быть столько типов зданий, сколько индивидуумов»), отталкивается архитектура, противостоящая нивелирующей стандартизации жизни, но в условиях современного общества доступная только определенным социальным слоям.
Современная архитектура в своих поисках опирается на многие принципиальные решения функционализма, а также органической архитектуры. Так, в одной из последних работ Ле Корбюзье исследователи справедливо видят стремление сблизить и объединить сильные стороны как функционализма, так и органической архитектуры.
Из этого сплава Ле Корбюзье сумел создать совершенно самостоятельный образ, противопоставив школе Миса не только иные принципы, но и иные формы (прежде всего вместо металлостеклянных призм тяжелую пластику железобетона). Первый шаг был сделан давно в жилом доме, исполненном Корбюзье в Марселе, второй — в капелле Нотр-Дам дю О в Роншане.
Корбюзье дал толчок принципиально важным для дальнейшего развития поискам, необычайно обогатившим современную архитектуру. Примером может служить творчество финского архитектора А. Аалто, американского Ээро Сааринена.
В практику 50—60-х годов прочно вошли «висячие покрытия», «своды-оболочки», резко изменившие представление архитекторов об объеме и пространстве и расширившие их творческие возможности. Соотношение функционального и художественного находит выражение в общественных сооружениях. Стало правилом использовать спортивные постройки как универсальные трансформирующиеся залы.
Постоянно идут поиски наиболее экономичной и удобной, но и художественно выразительной формы и образа вокзала. Так, «идея полета» — не грубая аналогия с реальной птицей, а лишь ассоциация с ней, «волнующее ощущение путешествия», как определил свое решение сам автор, выражены в проекте аэровокзала около Нью-Йорка, исполненном Ээро Саариненом в 1958 г. (проект осуществлен уже после смерти зодчего). В здании нет ни одной строго геометрической формы, не говоря уже об окружности или прямом угле. Сааринен стремился к созданию пластической формы, «в которой обеспечена непрерывность всех архитектурных элементов». Своим ясно выраженным художественным обликом здание как бы психологически подготавливает людей к полету.
Аэровокзал близ Вашингтона, созданный по проекту Сааринена в 1963 г., прост и рационален как по функциональному, так и по объемно-пространственному решению (четкое разделение прибывающих и улетающих пассажиров, приема и выдачи багажа, замена переходных галерей, ведущих к самолетам, салонами-автобусами на 90 человек с подвижным уровнем пола в зависимости от пола вокзала и высоты кабины самолета). Железобетонное плиточное перекрытие главного операционного зала второго этажа (180х45 м), опирающееся на два ряда наклонных пилонов, напоминают, по меткому определению А. В. Иконникова, «гигантский тент» и производит большое впечатление ясно выраженной тектоникой.
Мощные пилоны-устои и гигантское висячее покрытие приобретают неожиданную легкость и даже ажурность благодаря нарочито тяжеловесной по пропорциям контрольной башне, поставленной рядом. Убедившись в определенной узости международного стиля — функционализма, современные архитекторы пытаются развить те стороны, которые ими не учитывались ранее: пластические возможности архитектурных форм, индивидуальные запросы, связь с национальной культурой. В последние годы особенно актуальной становится проблема соотношения национального и интернационального в национальной архитектуре отдельных стран. Несомненно, что истинный путь здесь лежит в преодолении как космополитических нивелирующих тенденций, так и бесперспективных попыток реставрации и стилизации многих, уже ушедших в прошлое местных архитектурных форм, в использовании истинных традиций и живых современных потребностей, на которых и должны строиться национальные архитектурные школы. В условиях современного общества этот творческий процесс поисков и находок, разумеется, сложен и неровен и имеет массу камней преткновения.
Источник: studbooks.net
Кризис современной архитектуры
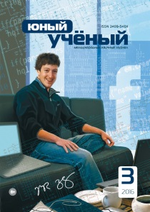
Скобин, И. Г. Кризис современной архитектуры / И. Г. Скобин, Л. Н. Батура. — Текст : непосредственный // Юный ученый. — 2016. — № 3 (6). — С. 76-80. — URL: https://moluch.ru/young/archive/6/356/ (дата обращения: 12.10.2022).
Актуальность темы. Недооценивать влияние архитектуры на формирование облика городов и поселков планеты, а также воспитание вкуса и даже духовное развитие человечества нельзя ни в коем случае, так как именно творения наших собственных рук — жилые дома, промышленные здания — окружают нас всегда и везде.
Как отмечал в своей работе кандидат социологических наук М. Б. Вильковский, «Архитектура имеет огромное значение в нашей жизни. Архитектурные сооружения выполняют роль не только убежища, хранителя и источника жизни в качестве второй природы, но и служат средством коммуникации в обществе, особенно между поколениями людей» [4; с. 17].
Часто понятие «архитектура» упоминается в связи с внешним обликом здания или в целом по отношению к пейзажу населенного пункта, например, «архитектура город Н. оставляла желать лучшего», однако первоначально слово «архитектура» означало только процесс проектирования и строительства зданий, причем обязательно подразумевало наличие эстетической составляющей.
Находясь впервые в любом населенном пункте, особенно городе, в первую очередь обращается внимание именно на его архитектуру и по ней судят о культурном уровне страны в целом, знакомятся с обычаями, традициями и нравами местных жителей. Следует согласиться с тем, что намного приятнее любоваться стройными колонами и оригинальными фасадами, чем стандартными, серыми панелями типового микрорайона.
Это подтверждается, в том числе и работой молодых учёных П. А. Рябинова и В. А. Осокиной. Они указывают: «потребность в крупных офисных и многоэтажных жилых зданиях приводит к интенсивному строительству — уплотнению городской застройки, отсюда взаимосвязь архитектурного окружения и человека становится более тесной и сложной. Всё меньше внимания придаётся красоте форм, так как это требует меньше финансовых затрат, отсюда — прямолинейность, которая неприятно воздействует на восприятие глазом. Отсутствие различных по форме деталей влекут за собой монотонность городских построек и избыток плоскостей в архитектуре» [14].
Архитектурное сооружение служит частью динамического целого, формирующего всю жизнедеятельность человека, утверждает Э. П. Чернышова, она указывает: «Произведения архитектуры влияют на человека зачастую бессознательно, воздействуя на сознание, эмоции, поведение человека» [19].
Взаимосвязь между формой пространства архитектурной среды и поведением человека проявляется в особых движениях, эмоциональных состояниях, жестах, а также других действиях человека, указывающих на состояние внутреннего комфорта или дискомфорта, напряжения или расслабления, отмечает А. Л. Титов [18]. При этом он рекомендует учитывать две основные формы поведения: активную и пассивную, процесс освоения среды и отдых. Всё выше сказанное в совокупности указывает на актуальность исследуемой проблемы.
Объектом настоящего исследования послужили общественные отношения, складывающиеся в связи с возникновением и развитием кризиса в архитектуре.
Предметом исследования являются различные стили отечественной и зарубежной архитектуры и литература о них.
Методы исследования. Для написания работы автор использовал диалектический, исторический методы, а также методы сравнительного анализа и синтеза, наблюдения.
Исследованиями в области теории и практики архитектуры занимались И. А. Азизян [1; с.99], И. А. Добрицина [7; c.416], Г. С. Лебедева [9; с.228], П. А. Рапопорт [12; с.228], Г. И. Ревзин [13; с.169], С. Ситар [17; с.272], Е. Шугаев [20] и другие. Вопросам архитектуры Древнего мира посвящены работы Н. Н. Годлевского [6; с.303], А. А. Мусатова [11; с.144], архитектуре Средних веков и периода Возрождения — работы профессора Ю. Н. Герасимова [5; c.276], М. В. Зубовой [8], Т. Ф. Саваренской [15; c.376].
Влияние архитектуры на мозг человека известно с давних времен. Древние зодчие хорошо это знали, однако не могли объяснить этот факт, они просто строго следовали древним канонам. Современная наука сделала сенсационное открытие о том, что форма здания воздействует на психику человека. Так, форма с наличием только прямых граней способствует сосредоточению внутренних сил, напряженности, ярким негативным эмоциям. Здания кубической формы придают человеку мрачную сосредоточенность и отсутствие положительных эмоций.
Куполообразные формы, например, купола древнерусских церквей или византийских базилик, а также купола мечетей оказывают на человека совсем другое воздействие. Ощущение полной гармонии, слияние с высшим божественным началом. Не случайно первые жилища человека были округлой формы, и первые города в плане тоже представляли собой окружность.
Архитектурный апокалипсис наступил в 20–30-е годы прошлого столетия, когда впервые в мир пришла идея глобализации. Главные условия — это свободные перемещения не только товаров, но и рабочей силы, трудовых ресурсов. Глобальному миру нужен человек, свободный от привязанностей, от родины, черная однотипная масса, способная перемещаться по воле хозяев из страны в страну. Тогда архитекторы глобализации и вкинули в мир идею одинаковых как кубики, похожих как близнецы, зданий.
Одинаковые серые коробки, даже офисные здания влияют на психику человека самым непосредственным образом: снижает его восприимчивость на 30 % и работоспособность — на 40 %. Хорошо известны солнечные циклы, влияние солнечной активности на политико-социальные процессы на земле, но природное электромагнитное излучение сегодня полностью разрушено, стены из стекла и бетона экранируют любое излучение. Таким образом, альфа-частоты головного мозга сбиваются с нормального ритма. Отсюда и множество болезней, появившихся одновременно с новой архитектурой. Древние архитекторы знали о свойстве зданий накапливать и отражать эти излучения. По сути, все древние храмы не что иное, как ретрансляторы энергии.
Архитектуру не зря называют застывшей музыкой. Все древние храмы и сооружения строились с помощью меры длины, связанной с земным шаром или человеком. Сегодня ни один архитектор, построивший дом, не сможет спрогнозировать, как будет себя чувствовать в нем человек [2].
Архитектура 20 века — это всеобъемлющее движение, принявшее форму многочисленных дизайнерских школ, направлений и разнообразных стилей. Среди важных имен людей, которые стали реформаторами в архитектурном искусстве и проложили путь к оригинальным дизайнам и ультрасовременным новшествам, следует назвать Ле Корбюзье, Людвига Мис ван дер Роэ, Вальтера Гропиус, Фрэнка Ллойда Райта, Луиса Салливана, Оскара Нимейера и Альвара Аальто.
Архитектура 20 века представлена движением, известным как архитектурный модернизм и охватывающим период с 1900-х до 1970–1980-х годов (в европейских странах и России), отмечает Э. Михайленко. Он указывает: «Модернизм включает в себя несколько направлений (функционализм и конструктивизм, брутализм и рационализм, органическая архитектура, баухауз и арт-декор, интернациональный стиль), но всех их объединяют общие характеристики [10].
В стиле модерн, название которого так и переводится, как «новый», «современный», проявились черты, ставшие типичными для настоящего времени — упрощение форм, рациональный, функциональный подход к внутренней планировке здания, использование только современных материалов, так называемая «борьба с излишествами».
Все последующие стили архитектуры, распространившиеся в 20 веке, продолжили традиции этого уклона в рационализм, максимально эффективное использование пространства и отказ от декоративности и украшений в пользу целесообразности. Причем, зачастую даже безопасность зданий считалась излишеством — зачем строить что-то надежное, если можно сэкономить и сделать стены тоньше, а потолок — ниже?
Объективно оценить достоинства и недостатки современных стилей, вероятно, смогут только наши потомки, которым придется знакомиться с наследием, как и нам, изучая памятники архитектуры. Мы же можем лишь попытаться выделить некоторые, удачные или уродливые, современные направления архитектуры.
Для модернизма характерно использование современных материалов — стали, прочного стекла, бетона, пластика — в сочетании с традиционными камнем и деревом, лишенные таких атрибутов архитектуры прошлых лет, как колонны, ордеры и другие элементы внешнего дизайна.

В стиле конструктивизм или так называемом «пролетарском» направлении архитектуры, призванном служить не для украшения города, а для рационального планирования пространства, были выполнены большинство общественных зданий периода 30–40-х годов XX века: дворцы пионеров, дома культуры, рабочие клубы.
В 40 годы 20 века получило развитие еще более сдержанное направление в архитектуре — минимализм, девизом которого стал — «ничего лишнего». Его характеризуют простые формы и геометрия чётких линий, нет никаких украшений и декора. Минимализм подарил множество примеров удачного проектирования, если архитекторы следуют принципу американо-немецкого архитектора Людвига Мис ван дер Роэ. Считается, что корнями данный стиль уходит в традиции японского интерьера. Традиционная японская архитектура отличается ассиметричностью, строгостью и простотой линий, минимальным количеством предметов в интерьере, отмечает кандидат философских наук, В. М. Бадлуева [3].

Девизом стиля хай-тек (стиля высоких технологий) стал принцип: «дом — это машина для жилья». Он характеризуется крупными монолитными формами, аскетичностью дизайна, ультрасовременными, индустриальными конструкциями из металла и стекла. Самое современное направление этого стиля — био-тек или бионический хай-тек. Его цель — «жить дружно» с природой. Наиболее удачные, с нашей точки зрения здания, созданные в этом направлении — Художественный музей Милуоки, архитектора Сантьяго Калатрава.

В противовес советскому конструктивизму в 80-х годах XX века был создан стиль деконструктизм, представленный изломанными формами, демонстрирующими агрессивность, стремление противопоставить себя окружающему пейзажу. Следует отметить, что данный стиль не получил широкого распространения, но оставил несколько ярких зданий в архитектуре.

Такой стиль архитектуры как брутализм (от английского «brutal», то есть «грубый»), пропагандирует полный отказ от какого- либо украшения зданий и сооружений, изготовленных из необработанного железобетона, так называемого «честного материала». Данное направление архитектуры, ставшее символом неудачного подхода к проектированию городских зданий, уже к началу XX века утратило свою популярность.

Одним из абсурдных стилей архитектуры, по нашему мнению, является китч, само название которого, полностью отражает всю его суть. В переводе с немецкого, китч — это халтура, безвкусица, «дешёвка». Архитекторы, работавшие в данном стиле, сознательно «выпячивали» какие-то особенности здания, создавая такие, как «Дом — яйцо» или «Перевёрнутый дом». По утверждению А. Седых, известные дизайнеры и архитекторы часто, таким образом, иронизируют по поводу современной культуры, показывая, насколько показная пышность и использование лепнины из папье-маше далеки от настоящего искусства [16].

Кризис современной архитектуры берет свое начало с тех времен, когда жилье перестало быть долговременным. Наши предки строили здания, сооружения и жилище на века, зная, что в них будут жить их дети, внуки, правнуки. В настоящее время, в условиях всеобщей нестабильности, жилье перестало быть надежным семейным гнездом.
В настоящее время в Западной Европе большинство семей пользуются съемными квартирами, что означает целевого назначения жилья — «уверенности» в завтрашнем дне.
В нашей стране кризис архитектуры явно передаёт неравенство социальных слоёв общества: основная часть населения проживает в типовых многоквартирных домах, которые содержат квартиры-клетки — «сталинки», «хрущёвки», «брежневки», а также малогабаритные и коммунальные квартиры, что является пережитком советского социалистического общества.
Другая часть населения, имеющая более высокий доход, строит дома, коттеджи в виде замков за городом, на землях, окружённых лесами, озёрами и реками, в экологически чистых районах, которые радуют глаз и положительно влияют на эмоциональное состояние человека.
Полагаю, что причиной кризиса стала проблема современного уклада жизни, её чрезвычайная мобильность и изменение эстетического мировоззрения человека. Возможно, со временем человечество сможет преодолеть стереотип не только практичности зданий и сооружений, но и привлекательности их внешнего вида. Но пока проблема кризиса современной архитектуры остаётся актуальной. До тех пор, пока в архитектуре сохраняется такой стиль, как китч, решить проблему кризиса не представляется возможным, окружающие нас фасады зданий и сооружений будут представлять собой «бросовую поделку».
Таким образом, изменение архитектуры городов и зданий не в лучшую сторону, повлекло за собой изменение культурного облика города в целом, эстетическое его восприятие, и, как утверждают психологи, даже вызвало некоторые заболевания людей, например, депрессию.
Основные термины (генерируются автоматически): архитектура, современная архитектура, стиль, век, здание, влияние архитектуры, проблема кризиса, психика человека, населенный пункт, архитектор.
Источник: moluch.ru